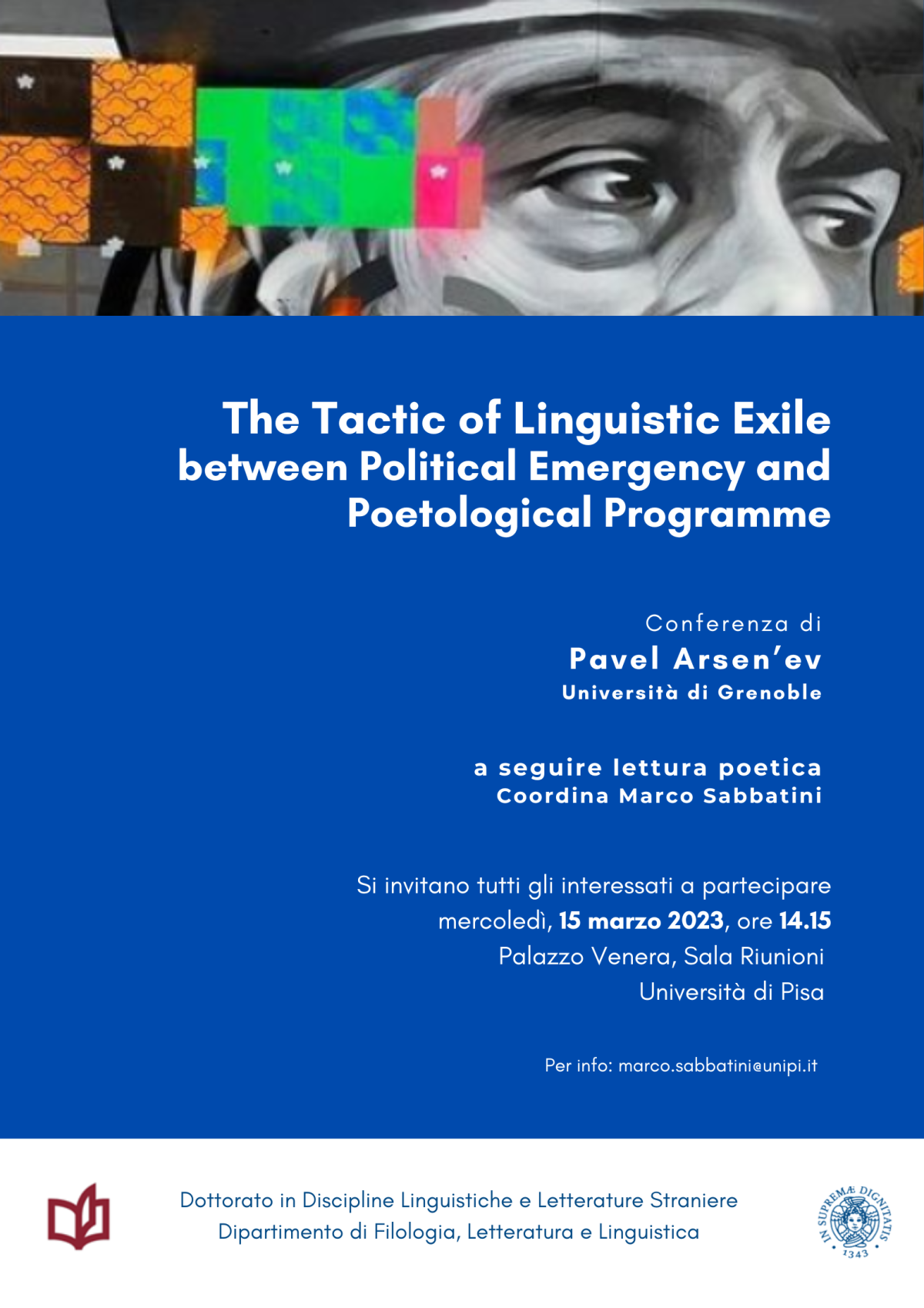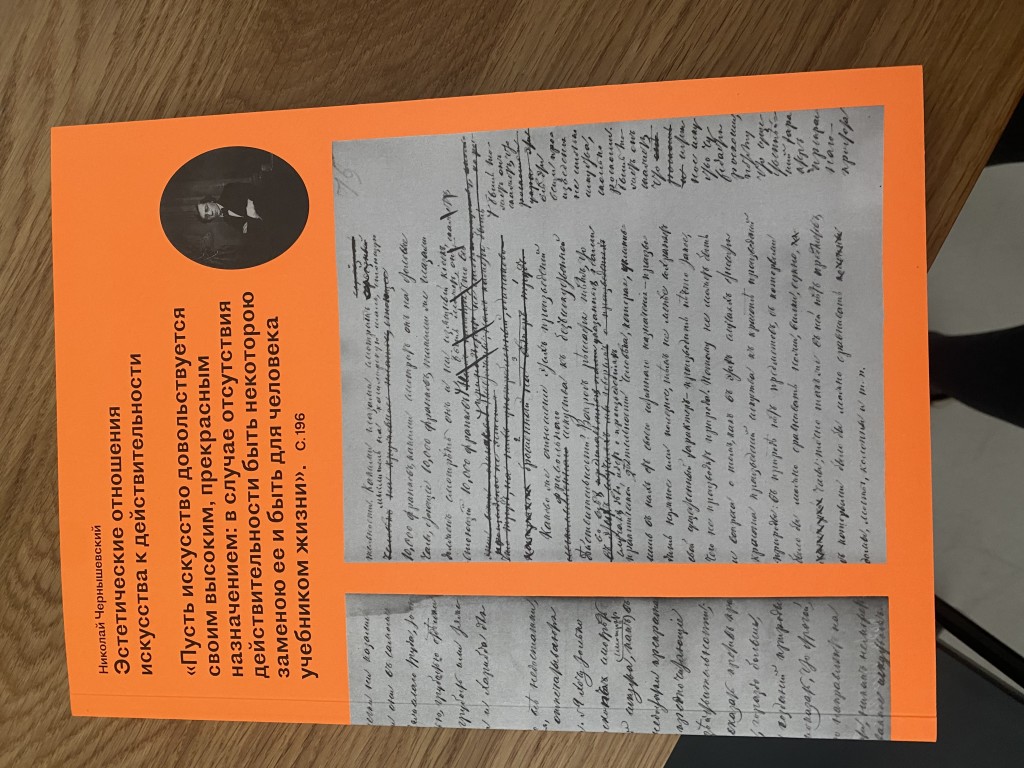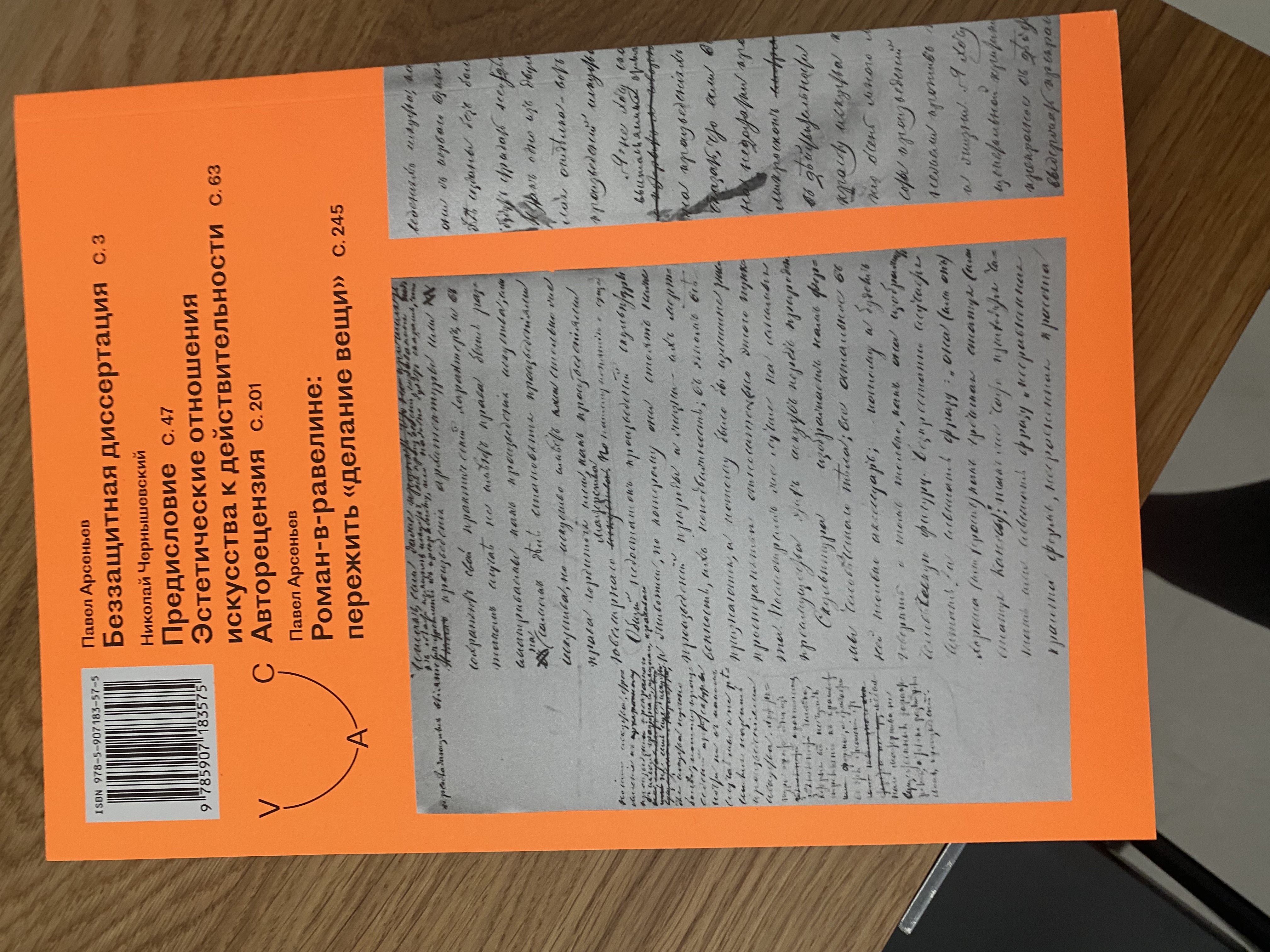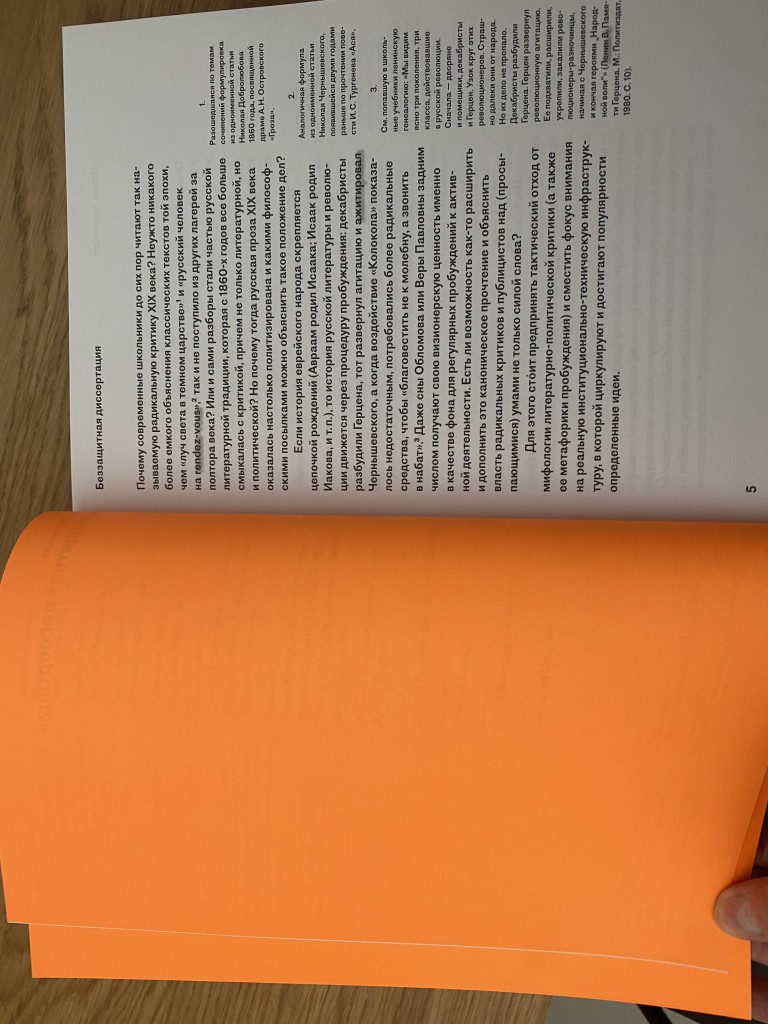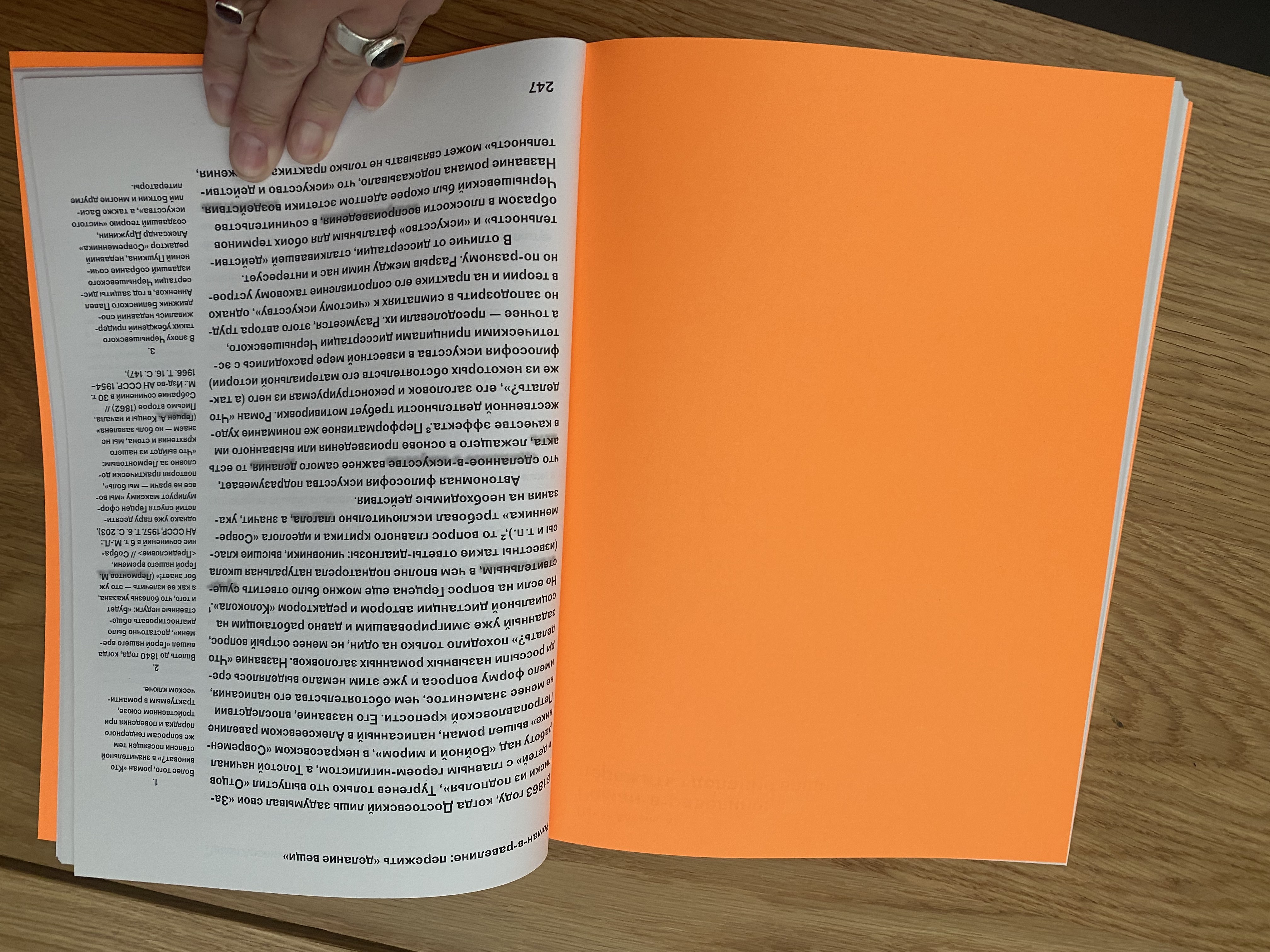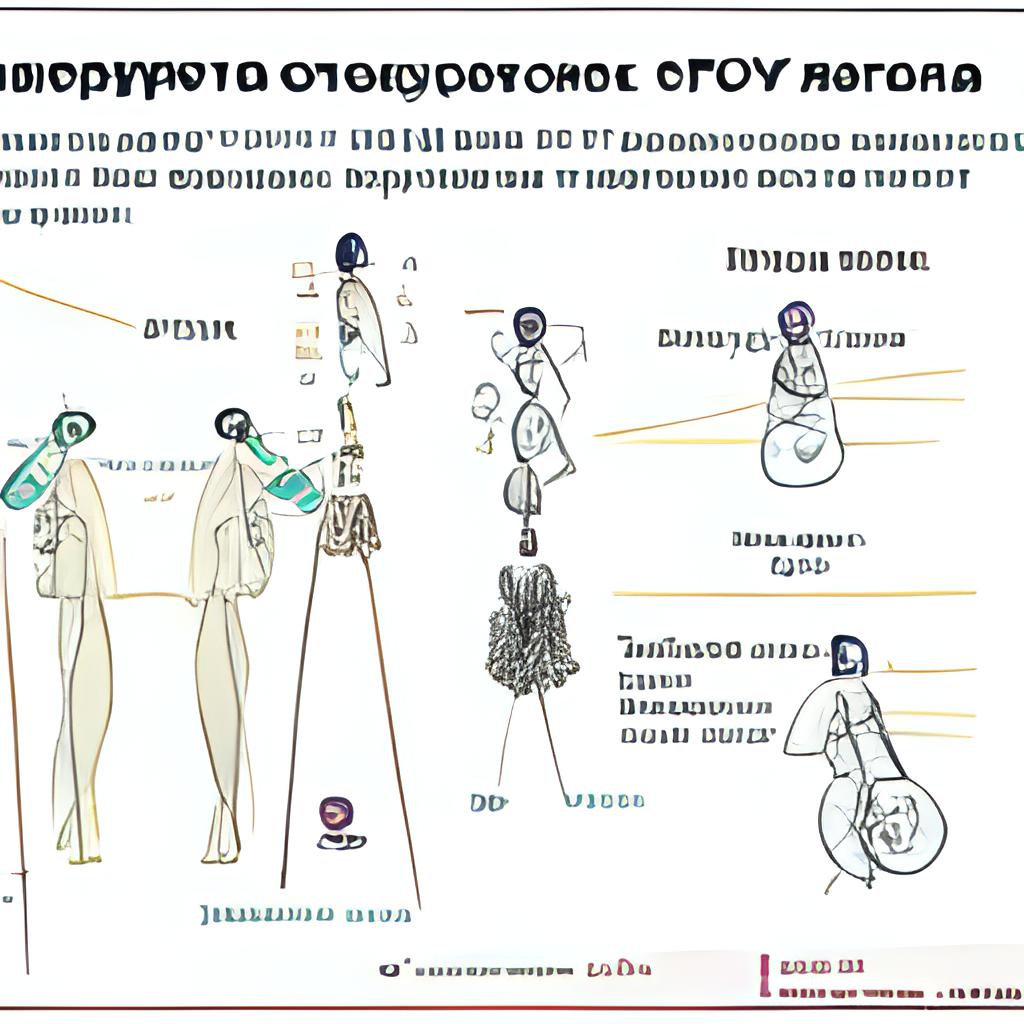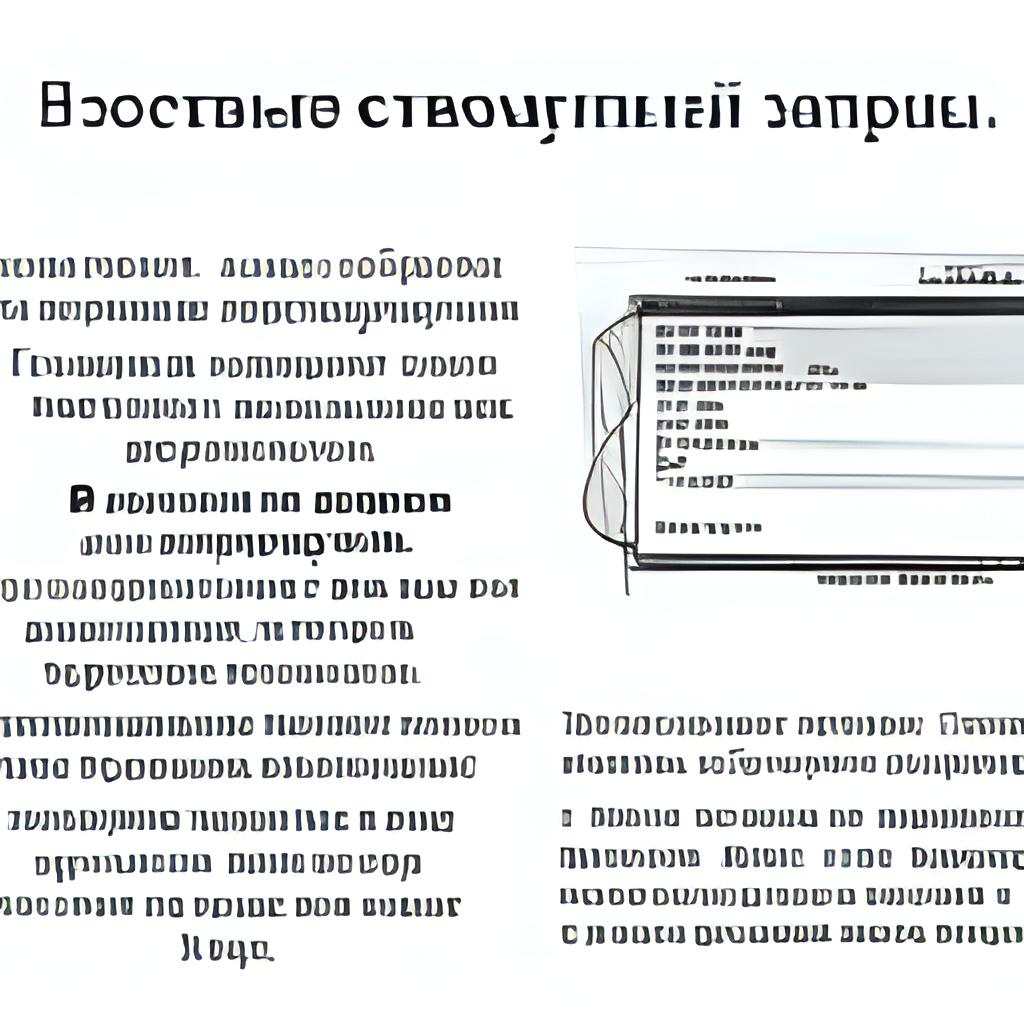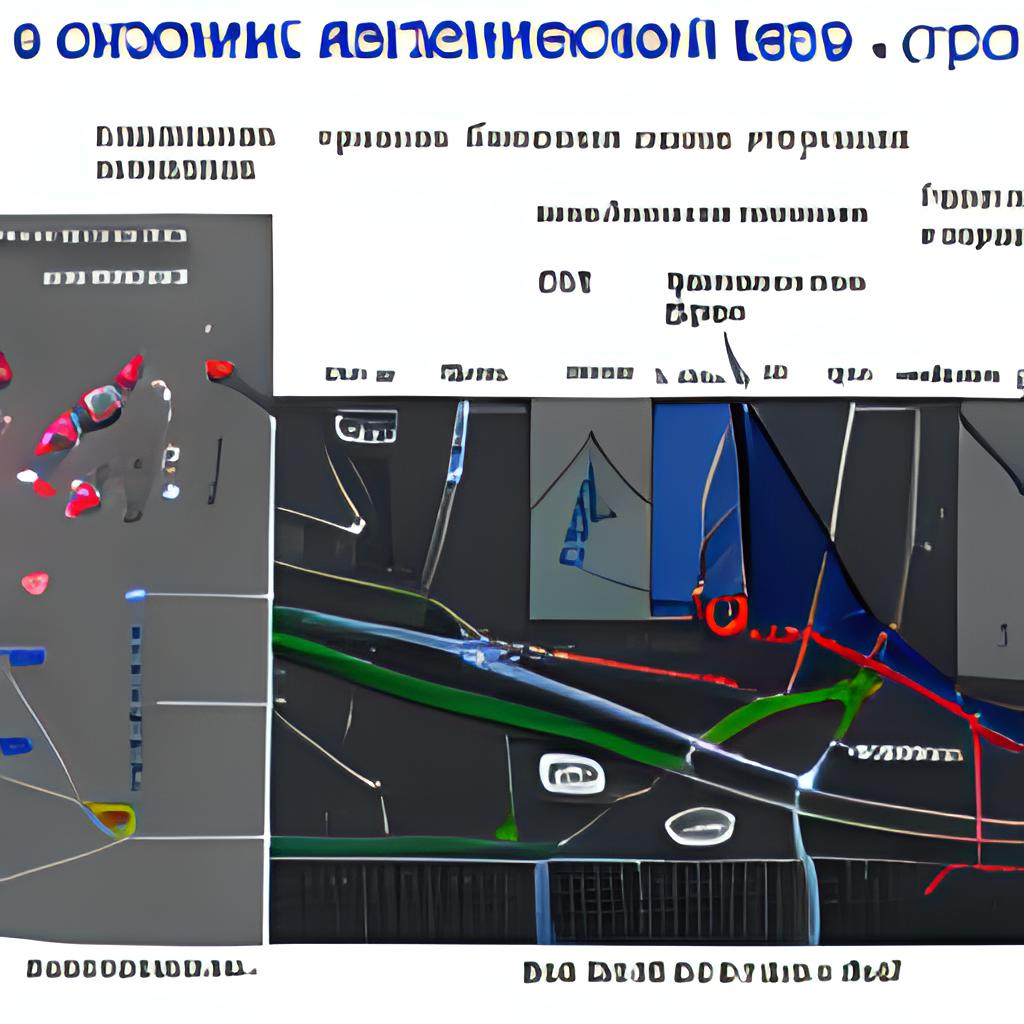2023. 140 x 215 мм. Твердый переплёт. 552 с. ISBN 978-5-4448-2129-9
Монография посвящена советской литературе факта как реализации программы производственного искусства в области литературы. В центре исследования — фигура Сергея Третьякова, скрепляющего своей биографией первые (дореволюционные) опыты футуристической зауми с первым съездом Советских писателей, а соответственно большинство теоретических дебатов периода. Автор прослеживает разные способы Третьякова «быть писателем» в рамках советской революции языка и медиа — в производственной лирике, психотехнической драме и «нашем эпосе — газете». Каждая из стадий этих экспериментов требует модификации аналитического аппарата от чисто семиотической призмы через психофизиологию восприятия к медиа анализу носителей. Заключительная часть книги посвящена тому, как литература факта смыкается с аналогичными тенденциями в немецком и французском левом авангарде (зачастую под непосредственным влиянием идей Третьякова, как в случае Беньямина и Брехта), а затем продолжается в такой форме послежития фактографии, как «новая проза» Варлама Шаламова.
Павел Арсеньев — поэт и теоретик литературы, главный редактор журнала [Транслит], лауреат премии Андрея Белого (2012). Доктор наук Женевского университета (Docteur ès lettres, 2021), научный сотрудник Гренобльского университета (UMR «Litt&Arts») и стипендиат Collège de France, специалист по материально-технической истории литературы XIX–XX вв.
Читать фрагмент (содержание, предисловие, введение)
Электронная версия доступна на amazon
Связанные публикации:
Наука труда. Техника наблюдателя и политика участия // polit.ru_pro science / syg.ma (опубликованный отрывок)
Корабль, на полном ходу перестраиваемый в завод // gorky.media
Диалог о книге с Эдуардом Лукояновым
Литература и материальность голоса // nlo.media
Беседа с Татьяной Вайзер для подкаста «Что изучают гуманитарии/Антропология культуры»
Колхозная форма повествования, или Как деколонизировать советскую литературу // polka.ru + Репортаж из «Коммаяка» // юга.ru
The Radio of the Future and Futurist Poets as its First Enginеers // Komodo 21 N°19 / Voix sur les ondes
Рецензии:
- Александр Марков (РГГУ). Телефон марки «авангард», или В поисках механической совести // Троицкий вариант наука No18 (386) 5 cентября 2023 года

Связанные мероприятия:
- 18 июля, Babel Books Berlin,«Третьяков в Берлине, или советский колхозник на rendez-vous», лекция-презентация книги. Facebook
- 23 mai, 14h-17h, séminaire inter-laboratoires «L’espace littéraire de Berlin à Vladivostok»: Les écrivains et la radio en URSS, avec participation d’Anna Saignes (LIS), Pavel Arsenev (Eur’ORBEM / PAUSE), Laure Thibonnier-Limpek (CESC | ILCEA4)
- 15 may Seminar on Tretiakov’s article «New Leo Tolstoy» at Galina Babak’s seminar «Soviet literature and industrialization» at Humboldt University
- 25 april Table-ronde «Russian and Ukrainian Avant-Garde: socialist (nation-) building» with Galina Babak & Alexander Dmitriev at the University of Geneva
- 29 февраля лекция «Revue (Nouveau) LEF: imaginaire & poétique du support» в l’Institut d’études slaves (Université Sorbonne Nouvelle)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=SM9-3GpFVtE
- 13 декабря лекция «Об истории языка, документации заурядного и литературном позитивизме»и презентация книги на факультете филологии и искусства Лозаннского Университета

- Видео-запись лекции